Зображення побуту в «Історії любовної» І.С. Шмельова: діалог із традицією
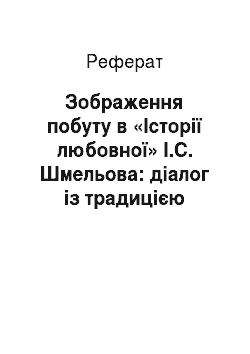
Презираемый домашний быт в мечтах Тоника побеждается другим бытом, книжным, который кажется герою возвышенным, а потому и приоритетным. В числе его примет — лакей в белых перчатках, «визитные карточки на серебряной тарелочке», оранжерея. Однако даже «списанные» у Тургенева бытовые подробности не очень соответствуют романтическим представлениям гимназиста, рисующим исключительные, удаленные… Читати ще >
Зображення побуту в «Історії любовної» І.С. Шмельова: діалог із традицією (реферат, курсова, диплом, контрольна)
ИЗОБРАЖЕНИЕ БЫТА В «ИСТОРИИ ЛЮБОВНОЙ».
В начале XX века за И. С. Шмелевым закрепилась репутация писателя-бытовика. Однако уже дореволюционная критика отмечала нетипичность шмелевского живописания быта, которая стала особенно очевидной в творчестве эмигрантского периода. Ее истоки — во взаимодействии с нереалистическими художественными системами, в способности писателя видеть знаки вечности в бытовой повседневности и в творческом отношении к классическому литературному наследию.
Предметом анализа данной статьи является изображение быта в «Истории любовной» (1927) Шмелева в соотнесении с традициями русской литературы.
Написанный в некую параллель с «Первой любовью» И. С. Тургенева, роман буквально соткан из литературных аллюзий и реминисценций. Так, О. Сорокина рассматривает произведение как «легкую пародию» на повесть Тургенева [2, с. 299]. Полемизируя с ней, А. П. Черников настаивает на «аллюзийности» романа Шмелева по отношению к произведению-предшественнику [3, с. 247—248]. Д. В. Мышалова усматривает параллели между «Историей любовной» и произведениями Ф. М. Достоевского [4, с. 40—42]. А ярко выраженное «морализаторство» (Н.М. Солнцева) Шмелева наводит на мысль о традиции Л. Н. Толстого. В то же время книжное чувство шестнадцатилетнего Тоника вызывает целый спектр литературных ассоциаций и параллелей. Среди героев, питающих романтические настроения гимназиста, не только тургеневский Володя, но и Онегин, Демон, Отелло, Дон Жуан и Дон Кихот.
Рассматривая роман Шмелева в аспекте бытописания, интересно обратиться к канонам романтизма, своеобразно преломившимся через призму «нравственного эстетства» [5, с. 229] юного героя. В «Истории любовной» традиция оборачивается иронией, а принципы романтической литературы «воссозданы» в воображении влюбленного подростка.
Восторженно-радостное, приподнятое настроение первой любви погружает шмелевского гимназиста в мир неземной мечты, навеянный образами и мотивами мировой литературы. Устремленный в область романтического, герой с горячностью юности отвергает устойчивые формы бытовой повседневности как недостойные его возвышенного состояния. В полном соответствии с книжными трафаретами он апеллирует ко взаимоисключающим категориям. С доброй, понимающей улыбкой описывает Шмелев исполненное воодушевления настроение молодого «поэта», только что написавшего для Серафимы настолько «хорошие» и «такие большие стихи», что даже «всплакнул от счастья»: «Что-нибудь одно: пошлость — или восторг поэта! Лучше я буду одинок, никем не понят, но я не отдам на смех толпе холодной своих мечтаний! Пусть я — погасну в мраке дней моих, но…» [7, с. 233].
Между тем житейские, материально-вещественные обстоятельства настойчиво вторгаются в бесплотные грезы героя, спуская его с «седьмого неба» на землю и погружая в «грубую действительность», которая материализуется то в приглашении Паши поесть блинчиков, то в напоминании родственников о необходимости готовиться к экзаменам.
Окружающий материально-вещный мир удивительным образом делится для Тоника на две неравноценные, антитетические части. Все, что связано с его чувствами к Серафиме и с ней самой, представляется герою в идеальном романтическом свете, которому грубо противостоит каждодневное бытовое поведение и вещное окружение («Какая серость!»). Однако материальные подробности корректируют мечты героя, вскрывая их истинный смысл посредством шмелевского «луча юмора» (И.А. Ильин). Снова и снова переживая перипетии «Первой любви», пятнадцатилетний подросток воображает себя на месте тургеневского Володи: «С каким бы восторгом бросился бы и я с самой высокой оранжереи к ее ногам. Но у нас не было оранжереи, а с сарая — совсем не то, ужасное безобразие, и какие-то ящики и бочки. и еще этот дурацкий Карих в своих опорках. Все казалось таким противным, что было стыдно и хотелось плакать» [7, с. 195].
Напряжение смысловых полюсов снимается в грезах героя, подтягивающих к идеалу «отстающую» прозу жизни. К услугам начитанного Тоника богатое воображение, предлагающее сразу несколько вариантов романтического развития событий. Герой предстает то в облике лихого «охотника прерий», спасающего с борта тонущего корабля неописуемо прекрасное «существо из другого мира»; то в образе благородного аристократа, женившегося на бедной, необразованной Паше; то в виде сурового охотника, живущего в смоленских лесах плодами собственных трудов. И каждый раз «бесплотные» мечты восторженного гимназиста обретают соответствующий обстановке бытовой антураж, будь то карабин и широкополая шляпа, которую «обыкновенно носят мексиканцы»; золотая карета, лакеи, блещущие огнями и цветами залы или охотничьи сапоги, ружье, глухарь на вертеле и похлебка с грибами.
В моменты отрезвления от весеннего наваждения юный герой безо всякого внешнего побуждения обращается к приметам земного быта, акценты в котором, правда, расставлены специфически. Романтические настроения гимназиста обретают земную плоть в подробностях материально-вещного мира, привязанность к которому у героя Шмелева во многом автобиографического характера. Любовно-заинтересованное отношение Тоника к предметному миру напоминает соответствующие описания в «Богомолье» и «Лете Господнем»: «Через фуксии в красных ветках и зеленые планки кактусов, с приставленными к пупырьям сочными алыми цветками, я с интересом глядел на улицу. Летние уже конки неслись к заставе, мотая полосатыми шторками. Синие, новые, извозчики неторопливо поспешали, шикуя вымытыми пролетками. С узелками валил народ — навестить в городских больницах, на „Воробьевку“, в Нескучный сад. Все было весеннее-ново. Но больше всего меня привлекали женщины» [7, с. 240].
Внимание шмелевского героя к подробностям материально-вещественного существования служит прямой отсылкой к традициям русского классического романа с его «напряженным чувством быта»: «Бытовая среда (включая предметный мир) отныне не просто упомянута, а развернута в подробную картину жизненного уклада и приобретает в структуре произведения все большую значимость, обнаруживая взаимосвязь с общечеловеческими ценностями» [6, с. 190].
При этом едва различимые в реалистическом произведении контуры романтического повествования удачно подсвечивают характеры героев и романные ситуации. «Заповеди» романтизма откровенно профанируются поведением и письмами акушерки. Опытная, искушенная Серафима пользуется известными шаблонами как уловками для соблазнения влюбленного подростка. В ее арсенале и «грубая действительность», идущая вразрез с требованиями нежной и хрупкой женской души, и юный, поэтичный идеал, «как Ромео», и лепестки роз, и жалобы на одиночество, и усталость от пошлости жизни.
Лицемерный характер «возвышенного» послания Серафимы остроумно обыгрывается соседством с эпизодом за обедом, когда возбужденному и потерявшему аппетит Тонику «захотелось сыграть комедию» и он придумал сон про старца. Игра нервов выливается в беспричинный обман, чудесным образом предвосхищающий исход будущего свидания: «Зачем я такое выдумал — не знаю. Нервы мои дрожали, хотелось плакать. Было не по себе, — мучила совесть перед Пашей? Какая драма! Я же иду на. грех?..» [7, с. 460].
Поэтическое возвышение возлюбленной в «Истории любовной» то и дело корректируется. Внутренний мир «ангела» Серафимы выдает ее разговор с Женькой, ставший известным Тонику в пересказе друга: «Женщины любят в мужчине силу. И сказала: „Боже, какой вы сильный!“ Ясно, физиология. А когда попросил локон. — чудесные волосы, как шелк… — так взглянула необыкновенно!.. Сказала: „Боже, какой же вы романтист!“» [7, с. 216]. Начитанный Тоник тут же поправил: «Надо сказать — романтик! А не романтист!.. Не понимаю, какое у ней развитие, если. романтист?!» [7, с. 216].
В «Истории любовной» нет традиционной романтической разобщенности «быта» и «духа», поэтому попытки героев противопоставить себя «непоэтичной» бытовой повседневности и принять романтическую позу выглядят смешными даже в глазах малоопытного подростка. Таковы рассуждения о возможности брака соседа Карих, в самых неожиданных вариациях рифмующие мечты, любовь, самовары и арбузы: «Это. мечта! — сказал Карих гробовым голосом и пропустил в кулаки усы, словно хотел их вырвать. — Я. если по любви сочетаюсь законным браком, так и решил — пустить пыль в глаза! К чему, например, беречь большие капиталы, если чувство горит огнем? Медовый месяц приятно провести торжественно, в разных местах. Думаю первым делом посетить Тулу, самовар редкостный купить. Оттуда. на Кавказ! Смотреть кавказские горы и долины, арбузы там знаменитые. Мечтаю. Песня такая есть: „Куда ты, ангел мой, стремишься, на тот погибельный Кавказ?“» [7, с. 259].
Впечатление довершает наряд Карих, тоже сочетающий несоединимое: «Он был в параде, в сюртуке без пуговок, надетом на красную рубаху, в нанковых панталонах канареечного цвета, в продавленном котелке и в резиновых ботиках на босу ногу. Густые рыжие усы его были чем-то намазаны и вытянуты в стороны, так что можно было подумать, что он держит в зубах смазанный лисий хвост «[7, с. 256].
Показательно, что романтический настрой главного героя тоже лишен традиционной положительной окраски. Правда, писатель далек от осуждения своего персонажа. В пользу этого говорит его автобиографический характер и извинительный юношеский максимализм. Однако в целом «романтизм» Тоника оказывается не таким безобидным, как кажется на первый взгляд. Желание оторваться от быта, чтобы дотянуться до заветной мечты, отвращает героя от любимого и привычного жизненного уклада, заставляет усомниться в ценностях, еще вчера казавшихся незыблемыми: «Садик, который я так любил, показался мне жалким-жалким, с драными яблоньками и прутиками малины, с кучками сора и навоза, по которым бродили куры. Какая бедность! Если бы поглядела Зинаида.» [7, с. 185].
Книжные идеалы уводят Тоника в область псевдоценностей, снижающих в его глазах значимость дома и семьи: «„Боже, какая у нас грубость! — повторял я в тоске, вспоминая, как было там. — „Мух считаешь“, „екзаменты“… Ведь есть же люди, совсем другие. тонкие, благородные, нежные. а у нас только гадости! Если бы совсем одному, на необитаемом острове где-нибудь. чтобы только одна благородная природа, дыхание безбрежного океана. и.“ И опять выступала Зинаида» [7, с. 187]. Как и в случае с мотивом романтической влюбленности, мотив гордого одиночества страдающего от пошлости жизни героя здесь тоже иронически переосмыслен.
Навеянные книгами представления Тони о благородстве аристократических манер корректируются другими умозрительными идеалами. В мечтах героя о времени, когда он, окончив гимназию и женившись на Паше, удалится от городской суеты в леса Смоленской губернии, понятие благородства наполняется совсем другим содержанием: «Это же самое благородное — жить своими трудами, в поте лица есть хлеб!» [7, с. 252].
Однако в реальности герой Шмелева далек от индивидуалистических настроений романтического толка. По существу, он так же прочно и тесно привязан к семье, как и автобиографический персонаж дилогии. В «Истории любовной» разрушительной силе страсти противостоит система духовно-материальных ценностей, заключенных в понятие Дома. Как и в классической литературе, в романе Шмелева это особое пространство, в котором «временное связано с Вечным, а семейное, родовое — с народным и общенациональным» [8, с. 347].
Привязанность Тоника к семейным идеалам включает тесную связь с традиционным бытовым укладом московской купеческой семьи, а искусственное разделение материально-вещного мира на высокий и низкий снимается во сне героя, выявляющем его истинные жизненные ценности. Сновидение демонстрирует одинаково заинтересованное отношение подростка к низкой «прозе» и высокой «поэзии» жизни: «Приснился Карих, очень хорошо одетый. А на нашем дворе, на бревнах, сидят математик и „Бегемот“, с журналами, и будет сейчас экзамен. Я рад, что они на бревнах, будто родные, и надо предложить им чаю. Надо непременно послать за плюшками, и тогда они женятся на ком-то, как будто на тете Маше или на скорнячихе. И Женька снился, будто он тоже муж и сидит с Карихом на галерее. И должен приехать Пушкин. Мне очень страшно, что Пушкин меня увидит, а еще не посыпано песочком» [7, с. 319].
Презираемый домашний быт в мечтах Тоника побеждается другим бытом, книжным, который кажется герою возвышенным, а потому и приоритетным. В числе его примет — лакей в белых перчатках, «визитные карточки на серебряной тарелочке», оранжерея. Однако даже «списанные» у Тургенева бытовые подробности не очень соответствуют романтическим представлениям гимназиста, рисующим исключительные, удаленные от прозы материально-житейского характера картины. Навеянные «Первой любовью» грезы шмелевского героя рождаются в активном «сотворчестве» с классиком XIX века: «За обедом я думал о стареньком лакее во фраке и перчатках, который нес там тарелку с хребтом селедки, и мне казалось невероятным, чтобы чудесная Зинаида эту селедку ела. Это ее мать, конечно, похожая на молдаванку, обгладывала селедку, а ей подавали крылышко цыпленка и розанчики с вареньем» [7, с. 186].
Традиционный литературный канон в романе Шмелева творчески преображается. Непривлекательная в глазах героя проза устойчивого бытового уклада и семейных ценностей поэтизируется, а яркий романтический флер любовных настроений подростка разрушается примитивным и грубым обманом. Увлеченный далекими от жизни книжными идеалами, герой находит утешение там, где меньше всего искал: в уюте семейного очага и любовной заботе близких людей. Точно так же погруженная в житейские заботы Паша оказывается несравненно выше идеализированной в мечтах Тоника, «внебытовой» Серафимы.
Большую роль в сюжете «Истории любовной» играют многозначные образы-символы (бык, змей, голубь, рыбы), соединяющие реально-бытовой и религиозно-символический планы повествовании. Символика, проявляющаяся на всех уровнях художественного текста, — знак новой эстетики Шмелева, отличной не только от дореволюционного творчества писателя, но и от опыта предшественников-современников, писавших о первой любви. Как отмечает Е. А. Осьминина, ничего подобного не было «ни у Бунина с Толстым, ни у Куприна с Тургеневым» [1, с. 112].
Поэтизация семейных ценностей и противопоставление прочного повседневнобытового уклада разрушительной бездуховности роднит «Историю любовную» с «Обрывом» Гончарова. Оплот добра в последнем — Татьяна Марковна Бережкова, хранительница «старой правды», и герой «новой правды» — Тушин. Герой «Обрыва» не только цельная и гармоничная натура — «человек», по выражению Веры, но и талантливый хозяйственник. В его деревне нет привычного беспорядка, нищеты, болезней и пьянства.
Образ мыслей и стиль поведения, свойственный нигилисту Волохову, в романе Шмелева тоже получает своеобразный отклик. Драма на дне оврага, подобная описанной Гончаровым, только по случайности не произошла с героем «Истории любовной». Этот сюжетный ход не получил у Шмелева развития, дан намеком, но показательно, что обольстить подростка здесь пыталась акушерка «из передовых».
В финале произведения романтические устремления шмелевского Тоника получают рациональное объяснение и предстают в несколько неожиданном свете. Ясность в вопрос вносит сестра Лида, связывающая настроения брата с его склонностью к фантазиям и наличию несомненных творческих способностей: «Ах, братишка. какой ты странный мальчик! Ужасно, какая у тебя мечтательная душа. А твои „розовые письма“ я тебе как-нибудь отдам, годика через три. Впрочем, ты сам даже можешь написать не хуже.» [7, с. 516].
Характер преломления романтических канонов в романе «История любовная» заставляет вспомнить пушкинский прием «воскрешающего обновления» (В.Э. Вацуро) беллетристической традиции, представленный в «Повестях Белкина», когда известные литературные шаблоны преобразуются по законам нового искусства. Не случайно в письме к Марку Вишняку Шмелев аттестовал новое произведение так: «Вещь легкая. Вопросов не ставлю и не разрешаю. Романтизма — хорошая доля есть. Но. с прищуром» [2, с. 180].
В то же время история страсти шмелевского героя на фоне внешне безыскусственного, в чем-то прозаического семейно-бытового уклада наводит на мысль о «Старосветских помещиках» Н. В. Гоголя, заставляя вспомнить контрастную функцию вставного эпизода о влюбленном юноше. Как и в случае с классической повестью, поэтика романа Шмелева «строится на многократном эффекте неожиданности, нарушения „правил“ (в том числе и правил господствующего литературного фона, то есть фона романтической литературы)» [9, с. 145]. Накапливаясь, эти нарушения достигают своего апогея в сцене свидания, когда предполагаемое романтической традицией единение влюбленных оборачивается разрушительным разочарованием.
Изображение материально-бытовой среды в «Истории любовной» проливает дополнительный свет на принципы бытописания и характер усвоения Шмелевым традиций русской литературы. Нетипичность бытовизма писателя, сопрягающая бытовую повседневность со стихией национального духа, не в последнюю очередь связана с творческим усвоением принципов русской классики.
шмелев роман традиция быт.
Библиографический список
- 1. Осьминина Е. Для очистки и отчистки с жизнью // Москва. 1994. № 9. С. 111−113.
- 2. Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М.: Московский рабочий; Скифы, 1994. 400 с.
- 3. Черников А. П. Проза И.С. Шмелева: концепция мира и человека. Калуга: Калужский областной институт усовершенствования учителей, 1995. 344 с.
- 4. Мышалова Д. В. Очерки по литературе русского зарубежья. Новосибирск: ЦЭРИС; Наука. Сиб. изд-я фирма РАН, 1995. 223 с.
- 5. Тихомирова Е. «Мещанский роман» Ивана Шмелева // Новый мир. 1995. № 6. С. 227−229.
- 6. Шешунова С. В. Изображение быта в отечественной классике (на материале романа И. А. Гончарова «Обрыв») // Классика и современность / под ред. П. А. Николаева и В. Е. Хализева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 188−194.
- 7. Шмелев И. С. Собр. соч.: в 12 т. Т. 7. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. 640 с.
- 8. Духовный потенциал русской классической литературы: сб. науч. тр. / Моск. гос. обл. ун-т. М.: Русски м1ръ, 2007. 592 с.
- 9. Манн Ю. В. Творчество Гоголя: смыл и форма. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 744 с.